СЕРАФИМА
В начале ХХ века в сером невзрачном недавно учрежденном уездном городе Иваново-Вознесенске видное место занимали большие ткацкие корпуса с множеством ярко освещенных окон и закопченными красного кирпича стенами. Из упиравшейся в небо фабричной трубы безостановочно валили клубы черного угольного дыма в зависимости от погоды уходящие ввысь или стелившиеся по земле. Тяжелые паровые машины, пыхтя и сотрясаясь, вращали тянущиеся под потолками цехов железные оси, от которых шло множество шкивов - трансмиссий к сотням ткацких станков. Для того, чтобы нить в станках не обрывалась, в цехах была устроена удушливая тропическая жара. Работающие станки создавали в цеху оглушительный шум, и между ними, обливаясь потом, сновали полураздетые ткачихи. В свое время грубо и тяжело ревел фабричный гудок, оповещая уход одной смены и приход другой. Это была известная ткацкая фабрика промышленника купца первой гильдии Бурылина, изготовляющая знаменитые дешевые ивановские ситцы, идущие на потребу не только в Россию, но и в Среднюю Азию, Индию и Китай. Ткачихи, работающие на фабрике не были безликими трудовыми муравьями, как их после представляла советская печать, но многих, особенно давно работающих, Бурылин знал в лицо и вникал в их нужды, скорби и заботы. Одной из лучших ткачих у него была Серафима Новикова - рослая рябая женщина с добрым лицом и большими руками, которую молодые работницы звали: тетка Сераня. По требованию хозяина, мастер сидя в конторке, посматривая поверх тонких железных очков в цех, старательно составил список лучших работниц. Первой в списке значилась Серафима Новикова. Хозяин пригласил их к себе в особняк, куда они робко вошли, пораженные невиданной роскошью. В зимнем саду среди пальм, фонтанов и цветов был поставлен стол с богатым угощением. Бурылин, рассадив их по местам, поднял бокал с шампанским и произнеся поздравительный тост выпил с ними за их старательную работу. После обильного угощения, развеселившиеся ткачихи слушали граммофон, где пела русские романсы Плевицкая, где комик актер высоким голосом скороговоркой рассказывал анекдоты. После чего хозяин каждой ткачихе поднес в конверте денежную премию и памятный подарок.
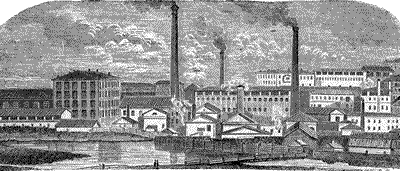
|
|
Фабрика братьев Зубковых в Вознесенском посаде (Иваново-Вознесенск). С литографии конца XIX века |
Тетке Серафиме достался плоский палисандрового дерева ящик, изнутри выложенный алым бархатом, на котором в гнездах лежали серебряные ложки и вилки. Довольные ткачихи разошлись по домам к своим мужьям и детям, а Серафима тоже пошла к себе в дом, где ее ждали двое приемышей-сирот, родители которых умерли от холеры. Из-за того, что Серафима была рябая, замуж ее никто не взял. Так и жила себе она в небольшом деревянном доме в Хуторово, воспитывая двух мальчишек. Работа на фабрике была тяжелой. Еще до рассвета по гудку вставала, умывшись, молилась и выпив чаю шла на фабрику. Работа и впрямь была каторжная по десять-двенадцать часов. Никаких отпусков тогда не было и в помине. Итак, Серафима отработала на фабриканта и на Советскую власть пятьдесят лет. Смотря на свои руки с вздувшимися венами она говорила, что ситцем, который она наткала за полвека можно было бы одеть полмира. Больная, ни больная все равно надо было идти в цех, и только с Божией помощью она совершила эту полувековую каторжную работу. Часто утром вставала немощная, неотдохнувшая, но помолившись и испросивши у Бога силы шла на работу. При Советской власти уже было полегче. И рабочий день поменьше, и тебе отпуск, и больничный лист, и даже в доме отдыха раз побывала. От новой власти ей был пожалован орден «Знак почета». А ситец всегда был нужен людям при любой власти и в революцию, и в Гражданскую войну, и в Отечественную. Я приехал в Иваново навестить бабушку Серафиму в 1946 году, сразу после войны. Она уже по старости на фабрике не работала, хозяйничала дома, получая скромную пенсию. Ее дом стоял в саду на краю города, и здесь было тихо и приятно. И только иногда, нарушая тишину, был слышен паровозный гудок и стук колес по рельсам проходящего вдали поезда. Да еще галки, живущие на колокольне закрытой заброшенной церкви, время от времени поднимающие гвалт и летящие всем скопом к бабушке в сад клевать ягоды, но всегда с позором изгоняемые хворостиной зорко следившей за порядком хозяйкой. По приезде в Иваново я решил ознакомиться с его достопримечательностями, но таковых в этом, еще недавно промышленном селе, не оказалось. Мне предлагали осмотреть здание, где впервые в мире возникли советы, или полянку на реке Талке, где впервые на маевку собирались рабочие, а бабушка Серафима посоветовала сходить в Бурылинский музей. Бурылин был большой оригинал, учреждая среди фабричных корпусов, жилых кирпичных казарм и серых сгрудившихся избушек музей, куда со всего света собирал разные диковины. Музей помещался в особняке в стиле модерн. При входе за небольшую плату мне дали шершавый серый талон. И первое, что я увидел, это были два рогатых и клыкастых африканских дьявола, раскрашенных черной и красной краской, плотоядно взирающих на посетителей. За ними в ряд стояли чучела разных зверей, среди которых я помню: льва, гориллу и удава. Были здесь страшные японские и тайские ритуальные маски, оружие дикарей, полки с заспиртованными в банках уродами. Но жемчужиной музея была настоящая египетская мумия с оскаленными зубами и усохшим черным носом. Советский период был представлен почетными грамотами, медалями почивших передовиков труда, снопами ржи, льна и искусно сработанным из гороха портретом Сталина. Музей в революцию не разграбили, пострадала только коллекция уродов, из банок которых революционные матросы выпили спирт. Кроме музея, Бурылин в Иванове построил несколько церквей, но церкви в городе давно уже были разорены, и службы в них не было. Раньше духовенство здесь было в почете, но в революцию постарались особенно, и священника сейчас днем с огнем не найдешь. Правда, в начале двадцатых годов на религиозное безвластие в Иванове прибыл самозванный обновленческий митрополит без бороды со скобленным рылом, он не скрываясь курил папиросы «Ира», имел молоденьких наложниц и говорил такие срамные проповеди, что бабульки только ахали и, закрыв лицо платком, выбегали из храма. Потом и его унесло революционным ветром неизвестно куда. Иногда я ходил гулять на окраину города к большому собору, стоявшему посреди капустного поля. Кочаны там росли отличные, большие и тугие, а вот собор был в абсолютном забросе. Дверей там уже не было, и посередине мальчишки развели костер, пекли картошку и калили железную трубу с водой, которая стреляла в потолок деревянным кляпом. На стенах и под куполом хорошо сохранилась роспись, и спокойные лики святых угодников безмолвно взирали на эту мерзость запустения. По периметру купола шла золотыми буквами четкая надпись: «Чистые сердцем Бога узрят».

|
|
Покровская церковь в селе Иванове. С литографии конца XIX века |
Народ здесь как-то легко поддался безбожной пропаганде и совершенно отстал от Бога, и Бог у них никакой стороной не присутствовал в жизни. Но бабушка Серафима от Бога не отреклась. «Дураки, вы, дураки, - говорила она, - главное то в жизни Бог, а вы потеряли Его, а придет злое время, и вы будете тосковать и искать Бога, да он не сразу откроется вам».
Утром и вечером она вставала на молитву перед иконами в восточном углу где тихо мерцала зеленая лампадка и просила у Бога не здоровья, не достатка, не еще каких-либо благ, а просила она, чтобы скорее кончилось это безбожное время, вновь открылись храмы и вновь запели Пасху. Раз в году на Светлое Христово Воскресение ездила она в Троице-Сергиеву лавру, чтобы исповедаться и причаститься. Возвращалась тихая, задумчивая, и в ее голубых глазах светилась радость. Лето уже приближалось к концу, но дни еще стояли теплые, солнечные. Я брал у бабушки Евангелие, книгу в то время редкую и запрещенную, и уходил в сад. Там лежа на траве, среди сухого малинника, я долго смотрел на плывущие в небе облака и думал о том, что вся жизнь у меня еще впереди, что в ней еще будут радости, а может быть, и скорби. Но скорбей пока еще не было, и я, повернувшись на бок и подперев голову ладонью, читал Евангелие: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его».

|
|
Собор в Вознесенском посаде. С литографии конца XIX века |
И как-то сладостно было на сердце от этих простых слов: «Авраам родил Исаака», и наше зыбкое временное и непрочное бытие виделось неколебимым и вечным и на призывы Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас» хотелось ответить радостными слезами, и взяв посох и котомку, ни о чем не думая, идти к дальним неведомым горизонтам.
И я подолгу читал Евангелие, осторожно переворачивая пожелтевшие страницы, пока на крыльцо не выходила бабушка Серафима и, приставив к глазам козырьком ладонь, высматривала меня в саду и кричала: «Валюшка, иди обедать!»
В те далекие послевоенные голодные годы обед был немудреный. На первое бабушка подавала постные щи, обильно посыпанные укропом, на второе оладьи из вчерашней пшенной каши, политые горьковатым льняным маслом, на третье - чай с сахарином. Чай у бабы Серафимы был возведен в культ. Пила она его только из самовара, который кипятила уже с раннего утра. «Пока я не выпью чая, я как неживая, - говаривала она. - Надо, надо брюхо чайком прополоскать».
После чая, она и впрямь оживлялась и принималась за дела. Дел у нее было много: пойти привязать козу на травку, покормить кур, поработать в огороде, принести из колодца воду и приготовить обед для своих воспитанников, когда они придут с работы. Все она делала спокойно, не торопясь, все с молитвой. Поэтому и приготовления ее всегда были вкусные. Вспоминала она и Бурылина и из стеклянной горки доставала заветный плоский ящик и показывала серебряные ложки и вилки, которые не продала и не променяла в самый лютый голод.
- Я за свою жизнь никого не обижала, всех жалела и и многим помогала как могла. Можете по всему Иванову пройти и спрашивать: обижала ли кого бабка Серафима? Я думаю, что такого человека не найдете. - Как-то вечером, сидя за чаем без хвастовства говорила она. - Наш род пришел в Иваново-Вознесенск с реки Суры. Она впадает в Волгу. Там мы жили, пока не приехал к нам вербовщик-приказчик Бурылинский набирать ткачих на фабрику. Приказчик молодой, пригожий, веселый, говорил сладко приманчиво, плясал, играл на гармошке. Ну, девки нашей деревни, все мои сродницы, и двинулись скопом в Иваново. Там очень-то хорошо не было, но и плохо не было. Девок вскоре разобрали замуж, а меня - рябую никто не взял. Так и осталась вековухой. Кому рябая нужна? Вот на фабрике меня ценили за работу. При Советской власти я больше наставницей была для молодых ткачих.
Хотя бабушка Серафима потомства не оставила, но воспитала двух сирот и на работе не посрамилась. Умерла она легко, потому как больших грехов за ней не водилось. Вечером помолилась, легла спать, так и уснула вечным сном. Пришли ее подруги-старушки, обмыли, спрятали покойную, читали по очереди Псалтирь. Воспитанники, тем временем, поехали в Сергиев Посад отыскивать батюшку. Нашли заштатного старого и очень нуждающегося батюшку. Привезли его в Иваново. Отпевать пришлось на дому, и батюшка отпел Серафиму по полному чину. Все было сделано честь по чести. Погребение совершили на кладбище возле Куваевского леса. На могиле поставили православный крест с надписью: Серафима Ивановна Новикова. Подарок от Бурылина она завещала продать, а вырученные деньги отвезти в Троице-Сергиеву лавру на помин души, что и было сделано.